МОЛЕНИЕ В ДИДИМЕ
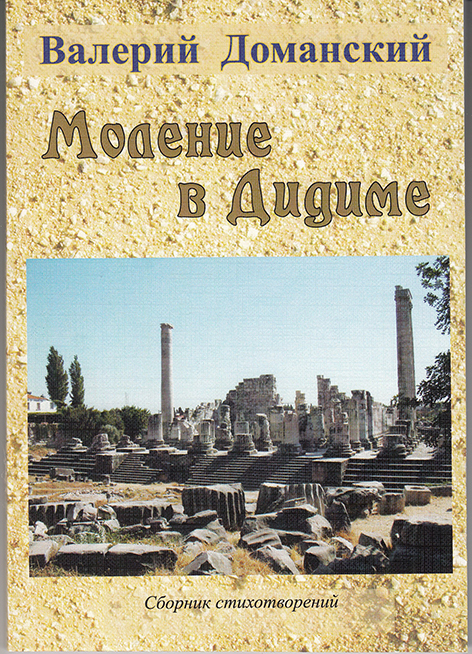
ПОЭТИЧЕСКИЕ ТОПОСЫ ВАЛЕРИЯ ДОМАНСКОГО
Поэтические пространства, заполняющие сборник В. Доманского «Моление в Дидиме»1, не имеют четких границ, смело совмещают разные страны, культуры, эпохи, вбирают в себя многогранность смыслов, богатство коннотаций, красок и форм. Автор, опираясь на впечатления от своих многочисленных путешествий, география коих весьма разнообразна, не ограничивается поверхностными путевыми заметками, но погружает нас в безмерное пространство мировой культуры. Поэт бродит в нем свободно и вдохновенно. Пытается читать бесконечную книгу человечества, с волнением разворачивая сей «древний дивный свиток». Ее отдельные страницы предстают в поэтических циклах, включенных в сборник: «Египетские ночи», «Кносский цикл», «Из греческой тетради», «На берегах Тавриды», «Ионические строки», «Тунисский берег» «В Андалузии», «Каталонские мотивы», «В стране тюльпанов и мельниц», «Итальянская мозаика» и др. Каждый обладает содержательным, стилистическим, интонационно-ритмическим своеобразием, но вместе они, дополняя друг друга, вливаются в единую многоцветную и многоликую картину.
Посещая города и страны, крепости и монастыри, пустыни и горы, автор погружается в миры далекие, экзотические. Созерцание руин, пирамид, останков античных храмов, даже самых малых следов былых эпох воспламеняет его фантазию, которая способна проникать сквозь спрессованные пласты веков в самые древние, глубинные слои культуры:
И вырастают образы из мрака,
И поднимают занавес вертепа.
Это проникновение и дерзко, и опасно – как будто пьешь «медленно губительный напиток, / С краев сдувая голубую пыль»; оно подобно схождению в пещеру Дикти, «по скользким ступеням, словно в Аида покои». Но неодолимо желание приоткрыть дверь в прошлое, ставшее прахом и тенью, потревожить его «сон золотой», «дать ему имя, образ и бога». Поэт вскрывает сокровища, которые высвечиваются сквозь толщу пыли вековой и начинают сверкать:
Время смывает следы на земле,
Но из обломков, песчинок, осколков
Звенья слагаются, и во мгле
Что-то высвечивается потомкам.
Особенности поэтической рецепции автором конкретных реалий заключаются в восприятии их как насыщенных смыслами текстов культуры. Каждое свое впечатление он опрокидывает, по определению Р. Барта2, в «воплощенную множественность», бездонность культурных кодов. Рецепция перерастает в емкий, многогранный культурный диалог. Образное пространство насыщено архетипами, текст отличается богатством культурных ассоциаций, реминисценций, аллюзий. В стихах сборника преобладает диалогическая интонация, многие из них написаны как разговор-размышление. Это может быть диалог поэта с мировой культурой, с искушенным и любознательным читателем, с культурными мифами и стереотипами, с литературной традицией, возможно, с Богом, и, наконец, с самим собой. Нарратив и описания картин проникнуты не только теплотой личностного восприятия, но и энергией обращения автора к собеседнику, с которым он делится впечатлениями, спорит, приглашает к беседе, раздумью, игре, что придает поэтическому дискурсу большую экспрессию, эмоциональную наполненность.
Подобный диалог возможен именно у такого автора, как Валерий Доманский – филолог, культуролог, ученый и педагог. Оснащенность глубоким знанием и профессиональный взгляд помогают ему видеть больше, чем обычному путешественнику, прочитывать тексты культуры, тонко чувствовать их своеобразие, стиль. А дар поэта рождает богатую амальгаму образов. Читателя встречает яркий, изобильный, приукрашенный романтикой мир, в котором бродит Фата-моргана, высится величественный Карфаген, ветер рвет паруса кораблей, несутся по степи кочевники – «аланы, гунны, готы, киммерийцы», восстает из руин обрамленный лесом колонн храм-диптер в Дидиме. Далекие эпохи оказываются не мертвыми, окаменевшими останками прошлого, но оживают силой творческой фантазии, наполняются плотью и кровью, обретают краски, звуки, ароматы.
Этот секрет оживления придает особое обаяние поэтическому дневнику странника. Как он это делает? Вечная тайна поэзии – «химия» образа. О ней автор размышляет в программном стихотворении «Гений снов», говорит об иррациональной силе творческого откровения, делающего поэта «вездесущим, как Протей», когда перед ним открываются все тайные глубины, сцепляются разорванные звенья столетий и пробуждается «зов к далеким берегам». Тема корабля, раздувающего паруса, – сквозная в сборнике:
И снова в путь, Корабль срывает якорь,
Наполнен парус временем и ветром...
Автор обладает даром вживания в любую далекую культуру, делая ее близкой, перевоплощаясь в человека, живущего внутри нее. Он может стать египтянином, ожидающим возлюбленную у пирамид, юной красавицей, которая в жаркий день скрывается в тени покоев Кносского дворца-лабиринта, одним из греческих мореплавателей, которые, как когда-то Ясон со спутниками, бороздили опасный Эвксинский Понт и впервые ступали на земли Тавриды или Колхиды, отчаявшимся жителем завоеванного римлянами и гибнущего Эфеса. Едва уловимые в памяти культуры образы обретают телесность, конкретность.
Валерий Доманский приближает и представляет крупным планом отдельного человека далекой эпохи, экстраполирует современному читателю его чувства и ощущения. И через стихи происходит чувственное соприкосновение с каждой культурой, что делает ее близкой, живой, поскольку все можно буквально увидеть, услышать, ощутить ароматы: пылающий жар пустыни, теплые египетские ночи, страстность испанского фламенко, терпкое благоуханье восточного сада в Смирне. При этом, подчас, рушатся стереотипы, застывшие монументальные формы, которые отлились в памяти культуры, они размываются внимательным всматриванием, нюансировкой. Так, в цикле «Египетские ночи», посвященном самой древней культуре и не случайно поставленном в начало сборника, образный ряд строится на контрасте застывшего, неподвижного, тяжелого – и живого, подвижного, теплого. С одной стороны, Древний Египет – затерянный в самой глубине тысячелетий мертвый, окаменевший мир, где «Нил лишь вздыхает протяжным рефреном» (как здесь уместен неторопливый дактиль!). С другой – нежность, теплота, чувственная откровенность любовного свидания («Нефертари»).
Любовь, ревность, другие понятные человеческие чувства оживляют древние дворцы и храмы, как это происходит, например, в «Кносском цикле», представляющем оригинальный эксперимент: в величественном дворце-лабиринте автор сосредоточивает внимание даже не на легендарном царе Миносе, но на фигурах неизвестных, обычных; сталкивает настроения четырех женщин – наложницы, служанки, жены и дочери царя. Выстраивается некая парадигма отношений обычных людей, и дворец в его монументальности отступает, становится фоном для их жизни, весь предметно-вещный мир видится их глазами, а потому оказывается соразмерным человеку, более естественным, реальным.
Поэт всегда проверяет чувством свою встречу с тем или иным городом, страной, уголком природы. Он вслушивается в свои ощущения, обостряются все его органы чувств. Автор осязает ветер морской, прикосновение к лицу струи из святого источника, губ в поцелуе, ощущает вкус терпкого вина. Он всегда чувствителен к ароматам тех мест, которые посещает или куда переносится своей фантазией. Кносская ночь пахнет «лимоном и чебрецом». В жаркой Сахаре хочется скрыться «от чада магнолий, цветов каркадэ и лимона». В сонете «Кара-Даг» приводит читателя в «лес таврийский, где цветет душица, / Где терпкий мед и липкая живица, / Что горькой стынет на смоле слезой». В Чуфут-Кале – «лаванды запах, резеды, душицы». А в родном украинском селе – «запахнет укропом, петрушкой, смородиной».
С внимательностью живописца поэт всматривается в цветовую палитру: «Иссиня-пепельное море», «И жаркое солнце, как яркая красная мальва, / Кровавит закат», «Я в хитоне бирюзовом / Как волна сверкну на троне», «Чистая белая лилия / С красным соком граната». Валерий Доманский играет красками, как драгоценными камнями, одна красочная картина сменяет другую, например, в описании заката на Ай-Петри:
Янтарь сменяет яхонт и коралл,
Темнеет море в сизой поволоке,
Сиреневый туман окутал плечи скал,
А у вершины тучка вьется, словно локон.
Еще минута – весь залив топаз,
Багрянец и рубин залил отроги…
В сборнике встречаются выразительные моменты, связанные с восприятием звуковой стихии, голосов мира, например, «Вальдемосский ноктюрн», навеянный историей пребывания Шопена и Жорж Санд на Майорке. Здесь сплетаются тонкие нити визуальных и слуховых впечатлений композитора (аккорд на фортепьяно, шум дождя, крик ночной птицы, вздохи моря), из которых рождается его известный ноктюрн «Капли дождя» («Дождь, как шаги, все тише, все прощальней. / Так хорошо, так грустно, так печально / Среди тревог, смятений и невзгод»).
В поэтическом преломлении реальности автор предлагает разные ракурсы и модальности – может приблизиться к масштабу частного микромира человека, но может уверенно охватывать и большие пространства, синтезируя емкие образы, например, взгляд на Грецию из окна самолета: «Разбросаны по склонам города, / Как будто сыр овечий на просушку циклопы разложили». Увиденное с высоты визуальное пространство перерастает в топос культуры и размышление о судьбах Эллады:
Сколько веков, Эллада, ты кормишь грудью
К тебе прильнувшие народы и культуры,
Не требуя взамен ни почестей,
Ни преклоненья?
Щепоточку б любви сыновней,
А не притворной жалости.
Главное достоинство сборника, конечно, в тонком образно-поэтическом видении мира. Стихам присуща густая, острая метафоричность, текст украшают щедро рассыпанные свежие, сочные образы, метафоры, сравнения: «Ночь бездыханна. / Распласталась как убитая пантера, разбросала кисти звезд», «Словно небо сошло на землю, / Нас созвездиями накрыло», «Лохматые горы, как псы деревенские, / остывшее море пьют жадно ночами». Здесь искусно воплощается древний поэтический принцип олицетворения природы («Азов затих, обласкан и согретый, Эвксинский Понт ворчит на рыбарей», «Черная ночь опустилась безокая», «Синайские горы, как зубья дракона, Рвут в клочья пустыню без звука и стона»). Поэт всегда видит в целостности и великолепии разворачивающийся перед ним природный театр, ощущает мощную, пусть иногда дремлющую, стихию («За всей гармонией здесь виден хаос, / Пока он спит, но грозно шевелится»).
Обладая тонким поэтическим слухом, автор вслушивается в ритмы, в музыку слов, играя созвучиями, аллитерациями («Я в полоне твоем, Каталония»). Интонационный настрой, инструментовка, ритмы, прасодия стиха меняются в зависимости от темы. Так, строки, посвященные самым древним культурам, нередко выстраиваются в торжественные гекзаметры и пентаметры («…Поднимемся сами, как древние вои/ К месту тому, где гора исполинский открыла свой зев»). Стихотворения, представленные в сборнике, являют широкий диапазон размеров, рифм и строф. Поэт Доманский свободен, раскован в выборе форм, а потому разнообразен. Настроение ведет его. Он может играть простейшей рифмовкой (берберы – пещеры). Обойтись совсем, или почти, без рифмы – в духе античной традиции, переосмысленной русской поэзий («Ты смотрелась. Аригнота, в зеркало воды стоячей?»). Легко чередовать ассонансы и диссонансы («Горы в жасминовой шали, / Лентой вьются дороги, / На небе пурпнурно-палевом / Можно увидеть бога»). Иногда ритм стиха сбивается, но это чаще оправдано взволнованностью, естественностью выражения или рассказа. Это вполне в духе верленовского понимания свободы в поэзии, где «точность точно под хмельком». Некоторые поэтические циклы дополняются прозаическими вставками, сохраняющими ту же меру искренности и лирической открытости диалога с читателем.
Ритмический рисунок оказывается не только формо-, но и смыслообразующим началом. Так, в стихотворении «Афины» анафорическое и ритмическое построение передает восторг, остроту впечатления и, в то же время, строгую рациональную четкость форм античной культуры (словно острым резцом отсекается все лишнее) и стоящие за ними ментальные основы, тяготение к гармонии, мере:
Брызги пены и желтой глины –
Афины!
Сгусток солнца и плод мандарина –
Афины!
Застыла скала, словно дремлющий сокол –
Акрополь!
Но чудо, гармония, мера, закон –
Парфенон!
О, Парфенон!
Основанье Софии и стен Нотр-Дама
И каждого русского храма.
Умело использует автор выразительность экзотических имен и названий, которые становятся элементами поэтического ландшафта, задают ритм, привносят краску и колорит: («Эгейское море. Эгина», «Вальдемосса. Горы Трамунтана»). Они оказываются кодом, вводящим в культуру, суггестивно погружают в ее атмосферу, звучат, как заклинания:
Эос. Эвтерпа. Эрато. Эрос.
Ночь. Селена. Сети Эреба.
Мы, как Родопа и Гемос,
Бросили вызов небу.
В образах и музыке стиха Доманский идет от литературной традиции. У него немало реминисценций и аллюзий, отсылающих к пушкинской лире. Это и вечное «Куда ж нам плыть?» («Куда ж нам плыть? / Не все ль равно – В Рим. Карфаген иль Сиракузы?»), и впечатление об Испании – «Кто сказал, что пахнешь ты лишь лавром и лимоном?», и упоминание Гвадалквавира как «реки, созвучной вдохновенью», и слово-пароль «Вобюлиманс» (из истории любви к Е. Воронцовой). Есть отзвук и Серебряного века. «Тавры» созвучны «Скифам» Блока и Брюсова, «Киммерийская ночь» – аллюзия на «Киммерийские сумерки» М. Волошина:
Тягучее, как мёд, степное лето,
Соленым ветром веет из морей.
Азов затих, обласкан и согретый,
Эвксинский Понт ворчит на рыбарей.
Не раз встречается парафраз известной строки Мандельштама «Одиссей возвратился пространством и временем полный» (которая могла бы служить эпиграфом ко всему сборнику «Моление в Дидиме»), например: «И я закатом кротким очарован. / Но более пространством переполнен, / И временем повязан, окольцован».
Обращаясь к хорошо освоенному поэзией материалу, например, к теме Италии или Испании, автор осознает, что имеет дело с богатой традицией, и выстраивает с ней отношения – играет, вступает в диалог, развивает. Так, прикоснувшись к испанскому тексту мировой литературы, он обыгрывает сложившиеся знаки кода – красавица с горящим взором, серенада под балконом, шаль, гитара, шпага, плащ, – включается в него («спою свою серенаду»), ведет диалог с Кальдероном, Пушкиным, Лоркой, Светловым.
Прекрасное владение литературной традицией проявилось в восточным цикле «Снег в горах», написанном в духе китайской и японской лирической миниатюры – смелый опыт реконструкции типа поэтического мышления. Поэт предлагает искусную стилизацию на основе принципов создания образа – изящная лаконичность, выразительность детали, ассоциативная насыщенность, тонкие коннотации состояний природы и человека, проникновенность и красота каждого момента бытия. Самодостаточность, фрагментарность каждой из включенных в цикл миниатюр-зарисовок делает ненавязчивым, почти незаметным объединяющий сюжет:
Первый снег.
Все деревья в снегу –
так цветет спозаранку
абрикосовый сад.
Ты вспорхнула с крыльца,
подставляя лицо
этим чистым и жгучим снегам.
В сборнике Доманского предстает богатый спектр настроений: лирически-задумчивое, взволнованное, пропитанное горячей страстью. Особой теплотой проникнуты пронзительные строки в цикле «Дым Отечества» о родине – Украине, о ставшей тоже родной для поэта Сибири, о Белоруссии. Все это большое пространство – единый, узнаваемый, дорогой сердцу мир. Здесь тоже – широкий диапазон настроений и интонаций. Есть светлые: возвращение, на малую родину («Мир древесный, травяной, избяный») – в родной дом в украинском селе, к матери. Там солнечно, уютно и тепло. Поэт пишет гимн маминому огороду – аппетитно, вкусно, опять-таки чувственно ощутимо. Предвкушение встречи с родным звучат уже в крымском цикле. Это не только постижение древней Тавриды, в которой сплелись народы и культуры, но и волнующее возвращение в места своей юности, где хочется найти «Тот дом, тот пляж, тот самый берег, / Ту улочку, что так неслась крылато, / Где так мечталось и так верилось». Сколько светлого, ритмически-летящего, словно юношеский порыв, в этом упоенном повторении – «Мой родной Херсонес, Херсонес, Херсонес»!
Есть ноты грустные: тоска о родине, которая иногда охватывает на чужбине (эта тема пробивается уже в циклах, посвященных дальним местам), например, вдруг пронзает в африканской пустыне («Мысли летят мои в Украину К матери старой в небеленой хате. Жалобно песню поют бедуины, Ночь и пустыня, тоска необъятная»). О родине поэт вспоминает умиротворенной осенью в ухоженном голландском Утрехте, думая, как не похожа на нее наша русская осенняя тоска, которую не объяснить европейцам, им не понять, «Что мы другие, меры мы не знаем – Все через край: и радость и тоска, Что каждой осенью душа рыдает, Другую окликая сквозь века». Звучат в этой теме и совсем горькие интонации (строки об опустевшем материнском доме, боль и мольба об Украине – здесь автор переходит на украинский язык).
Полифония поэтических впечатлений, представленных в сборнике «Моление в Дидиме», объединяется образом лирического героя – человека, исполненного жадного интереса к жизни, желания все увидеть, познать, вбирающего в свое сознание весь мир. Его путешествие во времени и пространстве, составляющее сюжет книги, – это постижение мира, культуры и самого себя. Этот философский подтекст подчеркивается продуманной композицией. В веренице поэтических циклов просматривается движение от далеких, экзотических культур к близкому, родному. Поиск своего места в этом мире приводит к малой родине, «где сходятся вселенские дороги». Звучит мотив вечного возвращения: от мира – к себе. Круг завершился, как у Одиссея, к образу которого не раз обращается автор. Его путь «окольцован». Все циклы сборника сами включены в больший цикл, его обрамляют созвучные друг другу строки стихотворения «Моление в Дидиме», предваряющее весь сборник и давшее ему название, и последний цикл «На Синае». Их объединяет сакральный мотив - устремление к Богу. Проступает экзистенциальная тема. Дидимейон – когда-то величественный ионический храм Аполлона, близ Милета, сколько веков люди взывали здесь к Фебу, даже среди руин сохраняется жар этого самозабвенного моления, к которому присоединяется и поэт:
Дух мой воспаряет к небу,
Сердце хочет плакать и стенать.
Долго, долго буду я молиться Фебу
И оракула тревожно вопрошать.
Трепет, который охватывает среди останков античного храма, сродни чувству, испытываемому автором в другом священном месте – на Синае – и побуждающему совершать нелегкое восхождение на гору Моисея. Неизбывна тяга человека к небесам, к миру высшему, сверхчувственному, божественному: «Усталое сердце все тянется к Богу, К сакральному слову, к высокому слогу».
И все-таки завершает сборник очень земное, трогающее своей искренностью и безыскусностью стихотворение «Родной дом». Это главное послание поэта, как и самое сокровенное. Важнее всего многоцветного мира, дороже всех храмов и дворцов скромный родительский дом – здесь, как в детстве в колыбели, «солнце качает меня на ладони», ночь же «взлелеет и мраком объемлет, / Млечным Путем понесет по Вселенной». Одиссей возвращается на Итаку…
Представляемая книга обязательно найдет своего читателя, которого захватит Одиссея Валерия Доманского – во всех ее смыслах: прямом (путешествие по морям и странам), культурном (блуждание по эпохам и культурам), философско-метафорическом (странствие по жизни). Все мы – Одиссеи… И в авторе сборника «Моление в Дидиме» находим увлеченного, умного и тонкого спутника.
Список литературы:
1Доманский В.А. Моление в Дидиме: Сборник стихотворений. СПб.: Союз писателей Петербурга, 2016. В дальнейшем цитаты из этого сборника набраны курсивом.
2 Барт Р. S/Z. Пер. с франц. 3-е изд. М.: Академический Проект. 2009. С.48.
Барнашова Е.В.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии















































Комментарии
Рында Татьяна
сб, 03/10/2018 - 13:44
Постоянная ссылка (Permalink)
Для меня имя автора на
Для меня имя автора на обложке- "Валерий Доманский" - это уже повод приобрести книгу. Не уверена- может ли обычный читатель писать другим читателям слово "рекомендую", но из личного читательского опыта делюсь- Доманский неинтересным, скучным, неглубинным или некрасивым НЕ БЫВАЕТ.